Степень нежности - отрывок из романа
 Писатель Владимир Петров, которому в этом году исполняется пятьдесят лет, — один из давних авторов нашего журнала. На страницах «Советского воина» увидели свет его первые рассказы, позднее — повести «Точка, с которой виден мир», «Горечь таежных ягод», «Облака над Марчихой», «Высота поднебесная» и другие. Писатель Владимир Петров, которому в этом году исполняется пятьдесят лет, — один из давних авторов нашего журнала. На страницах «Советского воина» увидели свет его первые рассказы, позднее — повести «Точка, с которой виден мир», «Горечь таежных ягод», «Облака над Марчихой», «Высота поднебесная» и другие.
Свою новую повесть «Степень надежности», отрывок из которой мы публикуем, автор посвящает воинам-ракетчикам.
Профессор Артищев упорно искал выходы в запутанном лабиринте совершенствования и обязан был говорить новое «да» всякий раз, когда на очередном повороте жизнь высвечивала пугающее табло «нет». Все это касалось радиолокации — арифметики будущего.
Образно говоря: он лечил ее от слепоты.
Был такой факт: в туманную осеннюю полночь 1942 года эскадрилья английских «либерейторов», на большой высоте приближаясь к границам фашистского рейха, вдруг выбросила пакеты тонкой алюминиевой фольги. В то же мгновение экраны немецких радаров вспыхнули сотнями белесых всполохов, в которых бесследно пропали импульсы подлинных целей. Впервые радиолокаторы «ослепли».
Долго потом еще применялся этот до умиления примитивный, но надежный, верный способ постановки помех. Однако противодействие со временем неизбежно рождает новое действие. А оно — новое противодействие. И так далее.
Юрий Федорович включился в игру, в эти оригинальные «технические пятнашки», в то время, когда радиолокация настолько набрала силу, что запросто прощупывала весь эфир, чертила в зените ракетные трассы. Она могла быть и надежным щитом, и разящим мечом, особенно в сочетании с огромной мощью ракет.
Еще в кандидатской диссертации Артищев верно нащупал основное направление, свой собственный метод селекции, решительно отбросив традиционные способы. Он решил идти новым, непроторенным путем.
Это был принцип «золотоискательского лотка», в котором среди массы пустопородного песка оседают на дно золотые крупинки. Надо было «затяжелить» истинные эхо-сигналы, выделить из помехового песка и «опустить на дно» только их — золотые искорки цели. А «тяжелыми», контрастными они должны были стать за счет сложнейшего процесса модулирования.
Именно это и делал артищевский «блок-фильтр». Способ был сложен до чрезвычайности, базировался на сверхточных и архитонких технических взаимосвязях, и в этом смысле являл собой систему, не уступающую по допускам эксплуатационной аппаратуре, — устойчивой, многократно апробированной, живучей и нечувствительной к отклонениям от норм.
«Блок-фильтр» по сравнению с ней выглядел тщедушным эмбрионом на хилых, неокрепших ножках. Выдержит ли он, взращенный в тепличном лабораторном климате, многотрудное взаимодействие с ней, будет ли надежным и стабильным это сопряжение?
Вот что волновало Артищева, вот о чем он беспокойно думал, направляясь поутру на позицию ракетного дивизиона.
Снег похрустывал, упруго пружинил под валенками, как рассыпанный крахмал. Над четкой гребенкой пихтача выкатывалось позднее северное солнце — плоский оранжевый диск, будто вплавленный в морозную радужную бахрому. Бело-синий мир, штрихованный чернью, сонный, убаюканный стылой тишиной, казалось, плыл в бесконечность, раскачиваясь на огромных качелях.
Артищеву подумалось о том, что в это утро к нему приходит совершенно новое ощущение здешней природы, будто незнакомой раньше или видимой когда-то иной, совсем несущественной гранью. Очевидно, не всякому человеку дано чувствовать себя частью природы — не сторонним созерцателем ландшафта, а его неотъемлемой принадлежностью, видеть окружающее не с боку, с дистанции, как любуются пейзажами в картинной галерее, а изнутри, уверенным в своем сопричастии с каждой живой краской и живущей деталью.
И это, наверное, зависит только от самого человека. От того, что он уже прошел и что увидел, а особенно, пожалуй, от того, что успел создать, сотворить. Природа всегда создает и почти никогда не рушит — не в этом ли кроется причина рождающегося с нею истинного человеческого созвучия?
А многое ли сам он создал? Ведь, создавая, творец должен думать о последствиях, этому прежде всего учит природа.
Созданное на благо живет вечно или хотя бы становится незначительной ступенькой к вечности — той самой заветной цели, к которой в конечном счете стремится человек...
Странно, он никогда не задумывался над этим раньше. И может быть многое терял, потому что даже в минуты творческих озарений не знал, полностью не представлял настоящую подлинную пружину научного поиска, вдохновения, окрыленности.
Так, наверно, и должно быть: дотошный анализ сделанного приходит в конце работы. Приходит как ощущение итога, завоеванного счастья и большой усталости. И еще, пожалуй, щемящей тревоги: долго ли будет жить созданное тобой? В самом деле: долго ли?
Артищев задал себе этот вопрос и подумал, что, размышляя, он совсем не случайно логически пришел к нему и споткнулся, как о крутой порог. Ибо из всех параметров быстротекущей жизни, сотканной из зыбких, меняющихся ситуаций, время, продолжительность, относительное постоянство — самый решающий. Особенно в технике, где старение исчисляется днями, часами, даже минутами. Здесь новое оправдывает свою категорию только тогда, когда оно перспективно, когда оно устремлено в будущее и способно жить. Новое ради новизны, какой бывает мода, в технике может стать только мертворожденным дитем.
Артищев стоял на пригорке и, запрокинув голову, разглядывал клубящиеся облака, взъерошенные ветром. Они непрерывно меняли очертания и, подсвеченные низким солнцем, являли десятки тончайших перламутровых оттенков. Менялась и земля: упавшие на сугробы тени делались поочередно синими, светло-фиолетовыми, сиреневыми, даже лазоревыми над редким сухостоем прошлогоднего лесного пожара. Да, именно в непрерывном обновлении содержится смысл и сущность вечности...
Издали позиции дивизиона напоминали запорошенный в тайге хутор-заимку, нерасчетливый хозяин которого почему- то расположил жилье на неудобном месте — на плоском взлобке среди негустого листвяжника. Несколько дымков, людские голоса, четкие в промерзшем воздухе, — все свидетельствовало о том, что идет активная деловая жизнь, несмотря на тридцатиградусный мороз.
Конструкции локаторных антенн стали видны ближе, когда Артищев спустился в ложбину: они четко рисовались на иссиня-фиолетовом небосклоне. На торной, расчищенной грейдером дороге поджидал газик: Артищев решил с утра поразмяться и шел напрямик через сопки пешеходной тропой.
Его ждали, очевидно, уже минут десять, солдат-шофер и командир дивизиона Фрол Прокушин (тоже давний приятель и однокашник Артищева по училищу) приплясывали на снегу, хлопали меховыми рукавицами — в брезентовом чреве газика не больно-то усидишь, согреешься.
— Ругаете меня? — спросил Артищев, прыгая на дорогу.
— Да, маленько есть, — буркнул Прокушин, поочередно сдирая с усов намерзшие сосульки.
— Сами виноваты. Я ж сказал: езжайте прямо в дивизион. Тем более тут же рядом. Зачем было ждать?
— Мы начальство уважаем, — усмехнулся майор Прокушин. — А ты к тому же свой человек. Обязаны беречь.
— Ладно, поехали.
«Вот любопытное сопоставление», — подумал Артищев. С Фролом Прокушиным они раньше не поддерживали близких отношений, просто знали друг друга по училищу и все. Однако сразу установили непринужденный контакт на «ты» без всякой дипломатии и деликатного увиливания. А Иван Бредун, сосед по холостяцкой квартире, крутит осторожные виражи и забрасывает величальные вензеля. Ведь он когда-то принадлежал к когорте так называемых «простецких парней».
— Приедет Бредун?
— Нет, — ответил Прокушин. — У него сегодня «день ТД» — технической документации. Будет до вечера сидеть в бумагах.
«Впрочем, это даже лучше», — решил Артищев. Предстоит заниматься проверкой, отладкой «блок-фильтра» — лишние люди, да еще не очень заинтересованные, здесь ни к чему.
— Ты мне прапорщика Мишутина дашь?
— Даю... — нехотя кивнул Прокушин. — Куда же денешься. Хотя, скажу честно, он мне самому позарез нужен. Ну а тебе без него не обойтись — это я тоже понимаю. Вчера посмотрел рабочую схему твоего «блок-фильтра» и аж вспотел от удивления: ну и закрутил, наворочал ты, профессор! Светлая голова, ей-богу!
— Считаешь, очень сложно?
— Да как тебе сказать... Сложно — это само собой, так оно и должно быть. Главное — смело, неожиданно. Ну, если получится, мы тебе в нашем дивизионе прямо мемориальную доску соорудим.
— Понимаю... — усмехнулся Артищев, подумав, что именно этих слов ему не хватало в долгие часы кабинетных раздумий и лабораторных экспериментов. Именно эти слова он должен был, как предполагал, услышать вчера от Ивана Бредуна. Он всегда считал, что откровенность, прямота, открытость устойчиво живут именно в боевом коллективе, характеризуют его в первую очередь в отличие от интеллектуально-слащавой лабораторной атмосферы. Это главное, что осталось у него в памяти, в душе от прошлых лет офицерской юности, он дорожил им и надеялся на встречу с ним здесь сразу же, едва переступив порог КПП.
И, пожалуй, ошибся. Вчера это точно — ошибся. Что ж, удивляться особенно не приходится: техническая оснащенность ведет за руку за собой высокую интеллектуальность и интеллигентность людей. А значит, как следствие, — тонкость, изощренность отношений, естественно, в ущерб простоте. Так он думал вчера. А сейчас решил, что, возможно, ошибался. Просто сделал скороспелой вывод.
С прапорщиком Мишутиным они встретились в жарко натопленной канцелярии. Сева Мишутин не то чтобы сдал или постарел за эти годы, а сделался осанистее, округлел и вроде бы эдак заматерел — немногословный и хитрющий костромской мужичок. Неуклюжий, почти квадратный в толстой технической куртке, не спеша поднялся, степенно пожал руку:
— С приездом в наши края, Юрий Федорович!
Артищев пристально всмотрелся в открытое обветренное лицо: ни тени неловкости, ни намека на нее. А между тем сам он явно ощущал эту самую неловкость, испытывая затруднение: как, в какой тональности продолжить разговор?
— Ты бы разделся, Мишутин, — предложил майор Прокушин. — Все-таки явился к командиру и сидишь потеешь, как Дед Мороз на школьном утреннике.
— Я могу, — согласно ухмыльнулся Сева. — Так ведь сказали, на минутку. Зайди, говорят, забери изобретателя. А раздеться мне один пустяк — снял ремень, и вся недолга.
— Ладно, не надо, — махнул рукой Артищев. Он как-нибудь знал, что скрывается за беспечной Севиной «недолгой»: будет минут пять, а то и десять сопеть, копошиться в углу, пока снимет куртку. Потом еще столько же станет причесываться да заправлять ремень. — Мы все равно сейчас пойдем на позицию.
Майор Прокушин недовольно поморщился, однако настаивать не стал.
— Так что, Мишутин, поступаешь в полное распоряжение подполковника Артищева. Таким образом. Чем будешь заниматься — я тебе уже говорил. Только ты попроворней, ради бога...
— Поспешай не торопясь, — опять простодушно ухмыльнулся Сева и поскреб курчавый затылок. Он цену себе знал и не очень-то реагировал на начальнические назидания.
— Ничего, — сказал Артищев, — мы уж как-нибудь согласуем темпы. Найдем общий язык на почве старой дружбы.
— Это уж точно! — очень довольно сказал Сева, напяливая замасленную ушанку.
На крыльце, прямо на виду у дневального, Сева неожиданно сгреб Артищева в охапку и искренне расцеловал:
— Ну, молодец, Юрий Федорович.
Артищев такого не ожидал, растерялся, растрогался. И недоумевал: почему, собственно, молодец? Сева пояснил:
— Ну, что приехал к нам. И что профессор — тоже молодец. Вот Ольга-то рада будет, как узнает!
«Черт меня подери!» — мысленно выругался Артищев. Да как он мог все эти годы настороженно, чуть ли недоброжелательно думать о Севе! Предполагать, что у них теперь навечно сложилась неприязнь старых соперников. Ничего такого не было и не могло быть. Хотя бы просто потому, что мужем Ольги стал Сева Мишутин, а не какой-то другой человек.
— Ну как она? — с искренним интересом спросил Артищев.
— Ольга-то? Ничего, в добром здравии. Работает, учительствует.
«Вот и вся, в сущности, информация. Исчерпывающая...» — с легкой грустью подумал Артищев. Большего ему сейчас и не требуется. А когда-то требовалось, даже было очень необходимо. Может быть, только сейчас он понял, что образ Ольги всегда воспринимался им со странной несерьезностью, как красивый мираж, придуманный только для того, чтобы заполнить некий нежелательный вакуум, чтобы самонадеянно полагать: у меня, как и других. У меня тоже есть то, что имеют другие. Есть любовь — своя, единственная, неповторимая.
Кто знает, может, тогда этот самообман был нужен ему. А теперь?
— А мы про тебя иногда вспоминаем, — сказал Сева. — Особенно, когда садимся играть по вечерам в лото. Ты же страшно не любил его. Затыкал уши.
Конечно, он помнил. Хозяйка, у которой квартировали молодые учительницы, была фанатичной «лотошницей». Зимними вечерами у нее собиралась компания таких же, как она, любительниц-старух, и допоздна за деревянной перегородкой слышались истошные вопли: «квартира», «чертовы стульчики», «поп с барабаном», «ослиные уши» и прочая абракадабра. Впрочем, Сева Мишутин — круглоголовый застенчивый сержант — там ведь никогда не был, откуда это ему известно? Значит, бывал потом, позднее, когда Артищев уже уехал на учебу в академию.
Надо полагать, настырная хозяйка сумела-таки привить ему вкус к этой медлительной, малоинтересной игре.
К позициям вела расчищенная широкая дорога-колея. Вроде глубокого коридора в лежалом спрессованном снегу. Стены по обе стороны ровненько срезаны солдатскими лопатами — видно, поутру вместо физзарядки основательно поработала тут молодежь под командой старшины.
Сева шел молча, изредка поплевывал семечками: нашаривал где-то в кармане пригоршню, бросал в рот, тотчас же пряча в рукавицу озябшую руку. Помнится, семечки были неистребимой страстью Мишутина-сержанта. Не пил, не курил, даже листвяжную серу не жевал, что было тогда модным шиком, а вот семечками баловался, лузгая их в самых неподходящих местах.
— Слушай, Юрий Федорович. — Мишутин вдруг остановился, тычком приподнял со лба ушанку. — Вот хочу спросить у тебя: ты мне доверяешь?
— То есть как? — изумился Артищев. — Что за глупый вопрос? И как тебе в голову могло прийти такое...
— Нет, ты прямо скажи. Доверяешь?
— Конечно! И безусловно. Как самому себе.
— Вот теперь ясно. Спасибо. — Мишутин высвободил из варежки руку и с демонстративной церемонностью протянул Артищеву. — Держи пять.
Прямо на дороге они обменялись этим довольно странным рукопожатием, после чего Артищев укоризненно сказал:
— Даже не ожидал от тебя, Сева...
Мишутин промолчал, опять нахлобучил на нос шапку и двинулся, переваливаясь по-утиному. Правда, семечки не щелкал, а о чем-то напряженно думал. Метров через тридцать снова остановился:
— Я человек прямой, Юрий Федорович. Ты это знаешь. Если дело делать, так без дураков: честно и ясно. Я почему это говорю? Потому что до сегодняшнего дня имелась некоторая лажа, ну, значит, фальшь. Как говорит Ольга, «дискриминация» против меня.
Сева побагровел, усиленно жевал губами, напряженно морщился — очевидно, длинная речь давалась ему с трудом. Да и связано это было по всей вероятности с большой личной обидой.
— Как это так: проверяют новшество, а меня — радиомастера, первого в части рационализатора — побоку? Почему? Не доверяют? На каком таком основании?
— Да брось ты, Сева! — рассмеялся Артищев. — Ведь попусту кипятишься.
— Я не кипячусь. Это я так рассуждаю. Да... Ну, думаю, Севостьян Егорыч, начальство совсем разлюбило тебя, отставку дает. Дескать, не дорос ты еще, товарищ Мишутин, до хитроумных профессорских штучек...
— Тьфу! — не вытерпев, рассердился Артищев. — Да перестань канючить в конце концов! Лучше скажи: видел ты эту «профессорскую штучку»?
— А как же, видел. И щупал даже.
— Ну и что скажешь?
— А что говорить — дельная вещь. Между прочим, я тебя сразу по почерку узнал. Помнишь, мы с тобой первые применили эту самую «перекидную» пайку? А монтаж хороший, прямо по заводским стандартам.
— Я не об этом... Будет ли она жить, как думаешь?
Сева с минуту молчал, в раздумье надул пунцовые щеки.
— Не знаю... Ты профессор, тебе и отвечать на такие вопросы. И вообще надо сперва попробовать, поглядеть в работе. А уж если честно, то есть у меня одна паршивая мыслишка. В смысле, сомнительная. Выходной каскад в твоем «блок- фильтре» больно жидок. А ведь он работает на сопряжении с аппаратурой станции. Боюсь, не потянет.

Это было не в бровь, а в глаз — Артищев даже поежился, соазу озяб от неожиданности, неприятного изумления. Мишутин с ходу назвал именно то уязвимое место, в котором он сам больше всего сомневался. Каскад был в общем-то второстепенным, и в ходе исследований времени ему отводилось значительно меньше: считалось, потянет и так, И только потом осциллограф убедительно показал, что от этого каскада существенно зависела стабильность функционирования всего блока.
И все-таки меткость Севиного аналитического резюме выглядела странной. Мишутин превосходный практик, блестящий монтажник, отличный радиомастер — все это очевидно, но всего этого очень мало, чтобы сразу безошибочно определить ахиллесову пяту, которая является следствием не конструктивного просчета, а усредненным итогом, выходом сложнейших математических расчетов, сошедших с авторитетных узоров-пробоин перфокарты.
— Интересно... — медленно, словно размышляя вслух, протянул Артищев. — Компьютер выдает позицию уверенности... Однако человек все-таки сомневается. И притом, казалось бы, без всякого основания...
— Почему это «без основания»? — возразил Мишутин. — Ты думаешь, что только вы, ученые, ломаете голову, а мы, технари, регламентные шпарим да семечки лузгаем? Мы тоже ищем. Я вот лично почти три года бился над таким же каскадом, ну в смысле, похожим. Правда, в порядке рацпредложения.
— Вот как! — удивился Артищев. — И что же, получилось?
— Да вроде, — неохотно отозвался Сева. — Наше дело какое: сбил, сколотил — вот те и колесо. Едет-катится, и будь здоров. А всякие там технические схемы да математические мудрости — это дело начальства. Ему виднее.
— А какое начальство?
— Да всякое, — хитро уклонился Сева. — То, которое высокое.
...За весь день потом Сева Мишутин не произнес и двух фраз — он не любил разговаривать во время работы, не любил отвлекаться. Даже не ходил на обед, доставал и жевал бутерброды, уткнувшись в монтажную схему и продолжая орудовать паяльником или отверткой.
Впрочем, и короткого утреннего разговора было достаточно, чтобы о многом задуматься Артищеву. Он теперь только пожалел, что в свое время отказался от своего опытного помощника, который настойчиво предлагал сделать экспериментальную доводку выходного каскада, усовершенствовать его схему.
И все-таки главное было не в этом. Артищев слишком хорошо знал Мишутина, чтобы не понять сделанного им совершенно недвусмысленного предостережения: будет непросто. Что скрывалось за этим? Чья-то недоброжелательность, неприязнь или зависть? А может, .обыкновенное равнодушие, за которым спрятано стремление поскорее отделаться от докучливого изобретателя, незвано вторгшегося в размеренный график будничной работы дивизиона, мешающего выполнению плана боевой, подготовки?
От такого предположения делалось досадно, обидно, тем не менее оно могло быть вполне реальным. Стоит только поставить себя на место здешнего командования. Он приехал, покрутился несколько дней, сделал отметки в командировочном предписании и уехал к своим обычным профессорским делам. А им потом латать прорехи в расписании, наверстывать упущенное из-за высокопоставленного визитера. Конкретной-то пользы для них никакой, одно беспокойство.
Даже если все закончится успешно — и когда еще «блок-фильтр» вернется к ним ощутимой реальной помощью в работе.
Вот так, если размышлять реально, трезво.
А может, он ко всему прочему еще и «перешел дорогу» местным рационализаторам — не так ли следует понимать другой прозрачный намек Севы Мишутина? Тоже может быть. Тогда становится объяснимой старательная отчужденность майора Бредуна, который не приехал, не пожелал приехать в дивизион сегодня — в первый, всегда очень важный, рабочий день.
Но как же в таком случае быть с новаторским духом, с энтузиазмом постоянного поиска и совершенствования, с благородной творческой окрыленностью, которые превыше будничной суеты, житейских мелочей и без которых всякое серьезное дело обречено на прозябание, застой, неотвратимое и опасное отставание? Или это только броские, красивые слова, произносимые при подходящем случае?
Нет, конечно. Слова как слова с той лишь разницей, что за ними обязательно подразумевается борение, противоборствование — без этого сама идея поиска нового превращается в элементарную бессмыслицу.
Итак — завтра предстоит проверка. Завтра решится все...
Владимир Петров
Рисунок Ю. Реброва
«Советский воин» №6 1977
*** |
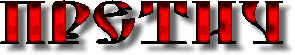
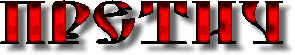
on July 30 2025 06:36:19