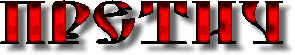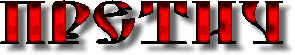Лёгких боев не бывает
О нем и его бригаде на фронте ходили легенды. Вот одна из них. Как-то получил он задание: захватить плацдарм на другом берегу реки. Стали искать брод. Туда сунулись, сюда — везде глубоко. Докладывают комбригу: так, мол, и так, не перейдут танки реку — утонут. «А дно-то у реки есть?» — спрашивает комбриг. «Есть», — отвечают. «Ну так вот по дну и пройдут!» И ведь прошли, и плацдарм захватили.
Что здесь от солдатской легенды, а что — от жизни? Об этом лучше других, конечно, знает сам комбриг, а ныне генерал армии, дважды Герой Советского Союза Иосиф Ираклиевич Русаковский.

— Иосиф Ираклиевич, это интервью выйдет в свет вскоре после Дня Победы (май 1987 года), и естественно, большая часть моих вопросов посвящена событиям Великой Отечественной войны. Но начать я хотел бы с другого. Мне довелось несколько раз наблюдать, как вы беседовали с молодыми солдатами, с допризывниками. Рассказывали им о днях войны, о нынешних буднях Советской Армии. И ни слова о собственном детстве. Почему? Разве детство никак не связано с выбором профессии кадрового военного?
— А я в детстве и впрямь не мечтал стать военным. Конечно, как все мальчишки, играл в казаки-разбойники, в Кузьму Крючкова...
— Простите, а кто это?
— Действительно, откуда же вам знать? Был такой знаменитый казак в первую мировую войну. Его частенько в тогдашних журналах рисовали: как он по семь немцев за раз на пику накалывает. Впрочем, к началу войны мне уж девять лет исполнилось, и мы как раз в ту пору переехали в Могилев из родной деревеньки Бородьково. Жили там бедно, с хлеба на воду перебивались. Вот отец и решил перебраться в город.
Ну, а раннее мое детство — деревенское. И если кем и мечтал стать, так только учителем. Таким как учитель нашей церковно-приходской школы Евмен Григорьевич.
— Хотели стать учителем, а пошли в военные — почему?
— Это уж заслуга моих старших братьев Адама и Федора — они еще в Гражданскую добровольцами в Красную Армию вступили. Адам окончил курсы краскомов — красных командиров, участвовал в подавлении кронштадтского мятежа, был ранен... Приезжали братья на побывку, рассказывали о службе, о мужском военном братстве. Вроде бы, и не агитировали, а так из их слов выходило, что лучшая профессия — военная. Да ведь и не только меня убедили: все братья Гусаковские, все шестеро стали кадровыми офицерами.
Адам со временем стал преподавателем в военной академии. Федор — военврачом. Евгений служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в боях с милитаристской Японией. Георгий прошел две войны — с белофинами и Великую Отечественную. Пули стороной их не облетали, но остались живы. А вот самый младший, Александр, погиб. Мне его командир написал, как дело было. Выбрасывали десант с самолетов в районе Балатона. Фашисты заметили парашютистов, открыли стрельбу...
Однако вернемся к тому, как я сам стал военным. Интересная штука получается. С одной стороны, мне это словно на роду было написано, а с другой — все могло сложиться иначе.
— Как это?
— А вот как. Собирались мы поступать в училище вместе с братом Евгением, и вдруг призывают меня на четырехмесячные сборы. Поехал Евгений в кавалерийское училище один. Держит экзамены и каждый день — к комиссару училища Ибатурину: вызовите, дескать, брата. Уговорил. Да пока я приехал, экзамены и кончились. На один день всего опоздал. Пошли к Ибатурину, тот утешает: ничего, мол, страшного, приезжай на следующий год. Не выйдет, отвечаю, по возрасту не пройду. «А твердо решил офицером стать?» — «Да я, — говорю, — для себя другой профессии и не представляю». «Ладно, сдашь экзамены в порядке исключения». Написал я диктант, решил задачки по математике. Через день-другой вывесили списки: меня приняли, а брата — нет. Теперь уж я за него пошел хлопотать. Комиссар объяснил: нехорошо, дескать, когда два брата вместе учатся — семейственность получается. «Но это, — говорит, — не беда. Я с другим училищем связался: примут там твоего брата».
— А все же, положа руку на сердце, не жалеете, что не стали учителем?
— Как это не стал? Офицер — в первую голову учитель. Солдатами не рождаются. Из вчерашнего пацана растят умелого бойца командиры. Мне, например, очень повезло в армии: мои наставники старались научить меня не только саблей махать, но прежде всего думать. Да вот вам хотя бы такой пример.
В тридцать первом году с ускоренным выпуском направили меня в кавалерийский полк. Через какое-то время вызывает комиссар Курмоярцев. «Командир ты, — говорит, — хороший, а говорить не умеешь». Правильно подметил. Это я сейчас разговорчивый стал — за восемьдесят два года жизни «натренировался». А тогда — слова не вытянешь. Так вот, дает мне Курмоярцев приказ: через неделю выступить в клубе с сообщением о международном положении. Приказ есть приказ, начал готовиться. Перечитал газеты, журналы. Перед дружком своим, взводным Ваней Куксовым каждый вечер «оттачивал» будущую речь. Наконец, пришел назначенный день, собрались в клубе красноармейцы. Начальник клуба объявил: сегодня демонстрируется такая-то кинокартина, а перед ней о международных делах расскажет командир взвода Гусаковский. Вышел я — и как в омут провалился: ничего дальше не помню. Спустился со сцены весь мокрый, думаю: сколько же часов я выступал? Подходит Курмоярцев: «Молодец, прирожденный оратор. Все международные новости за семь минут пересказал». И еще пять раз заставлял он меня выступать, но добился своего: начал я слова в предложения связывать. Ну, разве он не был для меня учителем?
— Убедили. Теперь, с вашего разрешения, перенесемся из тридцать первого года в сорок первый. Если не ошибаюсь, войну вы встретили уже не кавалеристом, а танкистом?
— Да, незадолго до того прошел переподготовку. Первые бои — под Ельней. Первая награда — медаль «За отвагу». В те дни наградами не баловали, поэтому горжусь этой солдатской медалью не меньше, чем самыми высокими своими орденами... Тяжелые бои были, много хороших хлопцев там осталось. Когда Ельню взяли, из командирского состава танкового полка в живых оказалось всего шестнадцать человек... Тут пришел приказ: отправляться нам, танкистам-командирам, в Москву. Приехали, выдают мне предписание: направляетесь, как начальник штаба полка, на учебу в танковую академию. Я предписание — на стол: не поеду. «Да вы что, смеетесь, — говорю. — Какая учеба? Война идет». Мне отвечают, что полки сейчас не формируют, поэтому должности для меня нет, и вообще — приказ есть приказ. Я на своем стою: хоть взводным — лишь бы на фронт. И добился-таки своего: назначили начальником штаба отдельного танкового батальона.
— А как с утверждением, будто плох тот солдат, который не мечтает стать генералом?
— На войне надо быть там, где ты нужнее всего. Где больше от тебя пользы. А ежели ты уверен, что находишься на своем месте, то и от лестных предложений легче отказываться. К слову сказать, оно иной раз и пользой оборачивается. Я вот один забавный эпизод вспомнил.
В ноябре сорок первого наш только что сформированный отдельный батальон бросили под Тулу. Выгружаемся мы с эшелона, вдруг вызывает меня генерал Волох — он в то время занимался формированием танковых войск. Знакомы мы были еще по довоенной службе. Вызывает, значит, и предлагает идти к нему начальником управления. Должность полковника, а я, между прочим, капитан. Лестно? И все-таки отказался: куда батальон — туда и я. Рассердился Волох, а потом рассмеялся: «Шут с тобой, оставайся комбатом. Может, из техники чего-нибудь подкинуть тебе?» «Хорошо бы, — отвечаю, — хоть несколько тяжелых танков». И что вы думаете, передал он батальону две роты танков КВ — их фашисты здорово боялись.
— Перед нашей встречей я просматривал военные подшивки «Красной звезды» и нашел несколько статей, посвященных вашему батальону и бригаде, которой вы командовали с сорок третьего года и до Победы. Такое впечатление, что под вашим началом собрались храбрец к храбрецу. Может, каких- то особенных людей отбирали?
— Не столько я отбирал, сколько сама война. Помню, формировали мы батальон. Приехал я в резервный полк с представителем особого отдела. Особист предлагает: давай возьмем список и с каждым основательно потолкуем. «А стоит ли? — говорю. — Лучше я по-своему проверю». Выстроил полк: «Кто хочет в танковый батальон, который через две недели вступит в бой, — два шага вперед!» Столько людей вышло — на три батальона хватило бы. Многие в бинтах — еще не долечились. И ни разу мне не пришлось потом раскаяться в своем методе отбора: не было среди ребят ни подлецов, ни трусов.
— Выходит, не зря про ваших танкистов ходили на фронте легенды?
— Это какие же такие легенды, любопытно узнать?
— Ну, к примеру, как реку по дну переходили.
— Какая же это легенда? Было такое. Перед началом Висло-Одерской операции собрал Жуков командиров передовых отрядов. Моей бригаде дал приказ: форсировать реку Пилица, приток Вислы, и захватить тыловые рубежи противника.
Усилили бригаду самоходками и артиллерией. Дело за малым: реку преодолеть. Лед артиллерию выдержал — переправили на другой берег. А танки лед не держит. Брод искать — времени нет. Как быть? Замазали все щели в машинах суриком, саперы взорвали лед — и пошли танки в воду. Командиры сверху, из башен выглядывают, механикам команды подают: направо, налево, прямо. А механики вслепую ведут. Переправились, захватили плацдарм. Какая же легенда? Этот случай в военных учебниках описан, с него началось подводное вождение танков.
— Пытаюсь представить, Иосиф Ираклиевич, каким командиром вы были. Суровым, жестким? Слышал как-то ваше выступление на одном из совещаний по военно-патриотическому воспитанию подростков и создалось впечатление: вы за требовательность во всем — в большом и малом.
— Требовательность — не самоцель. Надо знать, что требовать от ребят. Трудолюбия — да, дисциплинированности — да, умения переносить невзгоды — обязательно. А мы подчас вообще ничего не требуем. Родители детей жалеют: они, дескать, от занятий устают, им отдохнуть надо. Школа жалеет: как бы не перегрузить знаниями. Три месяца, целое лето отданы безделью! А разве не безобразие, когда в пионерлагерях предусмотрены должности уборщиц? Неужели ребята не могут сами помыть полы? А во многих ли школах есть столярные и слесарные мастерские? К сожалению, далеко не везде.
Или возьмем физическое воспитание. Разные секции — это хорошо, но мало. Каждому городскому микрорайону, каждому колхозу или совхозу нужен стадион, пусть небольшой. Наши же архитекторы, похоже, обеспокоены тем, как бы внешний вид улицы не испортить. Ко мне не так давно обратились из одной школы: помогите «пробить» стадион. Решили — что могут, сделают ребята сами, что им не под силу — возьмут на себя шефы-военнослужащие. Но районный архитектор сказал «нет»: пустырь ему возле школы нравится больше стадиона.
А сколько у нас в воспитании еще показухи! Даже в таком в общем-то нужном, полезном деле, как пионерская игра «Зарница». Представьте себе Всесоюзный слет, куда со всех республик и областей приезжают лучшие команды. Смотришь и умиляешься: все-то ребята умеют. А еще бы не уметь, если их целый месяц «натаскивали». Грешным делом, и я этим в свое время занимался, готовя московскую команду. Потом понял: одну команду подготовить, конечно, можно. Но куда важнее в каждой школе наладить повседневную военно-патриотическую работу.
— Последний вопрос, Иосиф Ираклиевич. Вам пришлось участвовать во многих боях. Какой из них, в ваших воспоминаниях остался как самый тяжелый, когда потребовалось предельное напряжение всех моральных и физических сил, понадобились все ваши знания, командирский опыт, мужество?
— Легких боев не бывает. Под Ельней было трудно, под Москвой, на Курской дуге... А вот, пожалуй, круче всего пришлось в самом конце войны, в январе сорок пятого.
Как всегда, наша бригада шла впереди наступающих войск. От своих оторвались километров на сорок. 28 января вышли к какому-то укрепрайону. Разведчики докладывают: справа минные поля, слева надолбы, а посередке небольшой проход. Немцы его то ли для контрудара оставили, то ли для отступления. Я решаю: рискнем. И ночью рванули вперед. Темень, ветер, мокрый снег... Прорвались. Утром пригляделся, по карте сверил: мать честная, оказывается захватили знаменитый своей неприступностью Мезерицкий укрепрайон. Тут фашисты в себя пришли, бросили отборные войска и прикрыли проход за нами. И оказались мы в окружении, далеко от наших частей. Трое суток они прорывались к нам, трое суток не выходила из боя бригада. Тут уж действительно от всех потребовались и мастерство, и мужество, и хладнокровие. Но сделали, что могли — и выстояли.
Беседу вел Б. Коптев
Фото В. Дружина
1987 год |