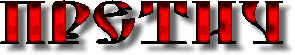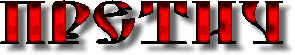Неоконченная диссертация
На дороге перед пограничным Хайратоном часто повторялась одна и та же история: ожидая досмотра колонны армейских грузовиков, идущих за грузами в Советский Союз, попадали в пробки, стояли часами. Чтобы скоротать врёмя, начальник одной автоколонны гвардии майор Суиныч Шарипов спустился к реке. Отыскал укромное место в буйных зарослях ивняка. Забросил в желтоватую от глинистых берегов воду заранее приготовленную удочку. С давно забытым наслаждением уставился на поплавок.

За рыбалкой забыл было гвардии майор о войне. А она напомнила о себе холодным дыханием смерти. Хрустнула ветка. Краем глаза Шарипов успел заметить верзилу в затянутом в талии халате с ножом в левой руке. Тот уже оттолкнулся от глиняного откоса, распластался в воздухе, нацелившись на беззащитную спину офицера. Но не мог знать нападающий, что своей жертвой он избрал начальника физической подготовки и спорта гвардейского мотострелкового полка, признанного мастера рукопашного боя. В те доли секунды, разделившие его судьбу на жизнь и смерть, Суиныч Юлдашевич успел сделать шаг в сторону, встретить грузное тело противника в воздухе, а остальное, как он после скупо объяснял сослуживцам, — дело техники.
Вот такая была у Шарипова рыбалка на войне, оставившая шрам на левом плече. О том происшествии он вспоминать не любит, чтобы не хваталась за сердце жена, да и перед бывшими сослуживцами, при всем их уважении к «железному начфизу» имеется неловкость: нарушил он тогда инструкцию, отошел от колонны, — тут уж из песни слова не выкинешь...
После встреч с Шариповым, разговоров с ним об умении офицера выстоять, а порою перехитрить сильного противника в смертельно опасной обстановке, у меня сложилось впечатление, что чей-то образ, словно неотступная тень, стоит за его спиной. Так было, когда он вернулся из Афганистана, и теперь, когда, став подполковником, прошел через пламя второй на своем не таком уж длинном веку войны, на этот раз в Анголе в качестве военного специалиста. А образ тот, конкретный — старшего лейтенанта Таманцева по прозвищу Скорохват из прекрасного романа о войне Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого...».
Откуда же берутся такие люди, пользующиеся даже у все повидавших бойцов особым уважением? Старшего лейтенанта Таманцева связывает с Шариповым, пожалуй, лишь сорок четвертый год, когда в семье инвалида-фронтовика, вернувшегося после скитания по госпиталям в каракалпакский город Нукус, родился сын, получивший имя Суиныч, что в переводе с узбекского означает «радостная весть». Именно таким событием стало появление еще одного ребенка в семье отвоевавшего свое политрука.
О человеке судят по его отношению к родителям, друзьям, поведению в трудные минуты жизни. Еще подростком Шарипов-младший взял себе имя безвременно погибшего друга Сакена. Именно Сакена Шарипова, экс-рекордсмена мира, мастера спорта международного класса, знают многочисленные почитатели железной игры. Имя Сакен получил и внук фронтового политрука, ныне лейтенант. Вот такое воспитанное с детства отношение к верности в дружбе, товарищам многое, на мой взгляд, приоткрывает в характере подполковника Шарипова.
Он рано начал серьезно заниматься спортом, с помощью нукусского тренера Николая Моисеевича Пака нашел свое призвание в тяжелой атлетике. Юниором, будучи студентом Узбекского государственного института физической культуры, выполнил норматив мастера спорта.
— Спорт и армейская служба как нельзя лучше способствовали формированию моего характера, позволили многого добиться в жизни, — с глубокой убежденностью говорит Шарипов. — Солдатом я стал после третьего курса института и нисколько не жалею, ибо убежден, что трудно стать настоящим мужчиной, не пройдя тяготы и невзгоды воинской службы.
Какой смысл вкладывает бывший атлет в понятие настоящего мужчины? Думается, лучшим ответом на этот вопрос может послужить выцветшая от времени газетная вырезка в семейном альбоме Шариповых, подписанная тренером по тяжелой атлетике майором КХ Федоровым.
«Впервые с Сакеном Шариповым я познакомился во Львове на первенстве Вооруженных Сил по тяжелой атлетике в 1963 году. В сборной команде Войск ПВО страны тогда не было хорошего атлета полусреднего веса, и один из тренеров предложил выпустить на помост молодого дебютанта первенства рядового Шарипова. Но тренерский совет не сразу пришел к единодушному решению. Просто не верилось, что этот худенький паренек сможет на равных бороться с теми здоровыми ребятами, которые в одной шеренге стояли с ним рядом на параде. А когда Сакен записал в протокол вес своих начальных подходов, то и тренеры, и участники просто пришли в замешательство: не много ли? Но паренек стал доказывать, что поднимет такую тяжесть, и сомневающиеся сдались.
Болельщики аплодисментами встретили первый успех атлета. А когда Сакен последовательно выжал 135 кг и затем вырвал 125, зал онемел от удивления. Даже опытным спортсменам этот вес не всегда покорялся».
Успехи солдата-спортсмена не могли остаться незамеченными. Вскоре его включили в сборную Вооруженных Сил. Он начал выходить на помост с эмблемой ЦСКА. Выходить в одной команде с Ю. Власовым, Е. Минаевым, С. Лопатиным...
Спортивная слава пришла к Шарипову, когда он, будучи уже младшим лейтенантом, на соревновании в Киеве в день 50-летия Вооруженных Сил СССР покорил мировой рекорд в жиме для атлетов полутяжелого веса. В троеборье он превзошел рубеж 500 килограммов, что по тем временам было большим достижением.
Порою приходится слышать разговоры, делился своими мыслями экс-чемпион мира, что спортсмены в погонах, отдав львиную часть молодости достижению высших результатов, затем оказываются на обочине жизни. Думается, что здесь все зависит от конкретного человека. Что касается меня, то одновременно с выступлениями за ЦСКА я окончил институт, это позднее помогло мне в тренерской работе с командами по тяжелой атлетике Московского округа ПВО, а затем до 1980-го — Туркестанского военного округа.
Воины-туркестанцы первыми протянули руку братской помощи сражающемуся Афганистану. Немало усилий стоило тренеру СКА, чтобы доказать: его место там, где труднее, под огнем.
Начфиз полка на войне. По-разному складывалась служба у офицеров в этой должности. Одни оказывались как бы на подхвате у начальства. Подменяли вышедших из строя командиров, находились в нужных и ненужных командировках. Гвардии майор Шарипов от боевых заданий не отказывался. Но уже из первых боев вынес осознанную необходимость приложить все усилия, чтобы свести к минимуму потери личного состава. Путь к этому он видел в лучшей военной подготовке солдат и офицеров, их физической тренированности.
Своими мыслями начфиз поделился с командиром полка, его заместителями, получил горячую поддержку своим начинаниям. За считанные недели в гвардейском мотострелковом полку из подручных средств был построен специальный горно-спортивный городок. Все его конструкции создавались предельно простыми по устройству и не требовали больших затрат.
— Построив в своем воюющем полку специальный горно-спортивный городок, — рассказывает подполковник Шарипов, — мы сделали лишь первый шаг к поставленной цели. Предстояло создать и внедрить методику подготовки воинов к действиям в экстремальных условиях. Имеющиеся наставление и разработки содержали кое-какие полезные советы, но война диктовала свои особые требования, и ее опыт стал основой для разработки упражнений. Среди молодых офицеров нашлись горячие сторонники новой системы обучения. Это прежде всего мастер спорта по военному троеборью гвардии лейтенант Н. Наметов, кавалер четырех боевых орденов, погибший на боевом посту в последний день пребывания в Афганистане, гвардии лейтенант Н. Акрамов, ставший впоследствии Героем Советского Союза, другие командиры взводов и рот. Это они предложили сочетать отработку упражнений по физической подготовке усиленной сложности (переходы по висячей лестнице, тросу, подвешенному над пропастью, и т. д.) с элементами тактической и огневой подготовки. Приведу только один пример, когда я лично убедился, насколько эффективны оказались полученные навыки.
В одном из боевых выходов мне довелось проделать часть пути с мотострелками на броне боевой машины пехоты. Неожиданно из кювета в десятке метров от машины поднялся душман в зеленой чалме с гранатометом в руках. Я вскинул автомат, но очередь находившегося рядом со мною сержанта прозвучала еще раньше, помешав бандиту прицельно выстрелить.
Ключевыми я бы назвал, кроме того, занятия по рукопашному бою. Ими в полку каждодневно занимались все, начиная с командира. Остро встал вопрос о специальной литературе. Подчас приходилось придумывать приемы самому. Все это были издержки, если мягко сказать, нашего «домашнего» воспитания. Да, что греха таить, и сейчас в войсках к рукопашному бою прохладное отношение. Даже кое-кто пытается базу под такое невнимание подвести. Рукопашный бой — это, мол, обоюдоострое оружие, случись какая размолвка между солдатами, а после увольнения в запас так и вовсе потачка хулиганству.
Проповедующие такие сентенции товарищи забывают, что рукопашный бой развивает и силу, и ловкость, и уверенность в реальной схватке с врагом. Мы уже затрагивали вопрос, кого считать настоящим мужчиной. Так вот я считаю того, кто, и сняв военную форму, всегда может защищать слабого, не дать обидеть женщину, дать отпор зарвавшемуся хаму, но никогда не пустит свои навыки в ход без крайней надобности.
Слушал я Шарипова. Любуясь его убежденностью, вновь сравнивал с полюбившимся образом Таманцева по прозвищу Скорохват.
Более грустные размышления навевали другие обстоятельства. После возвращения из Афганистана Шарипов, получивший назначение на должность преподавателя Военной академии имени М. В. Фрунзе, нередко заходил к нам в «Красную звезду», написал для газеты несколько статей. Помнится его глубоко аргументированное выступление «В ночном бою», напечатанное под рубрикой «Читатель ставит вопрос». Оно вызвало больше сотни откликов. Писали главным образом командиры подразделений, задавали по существу один и тот же вопрос: почему проверенная в Афганистане методика специальной физической подготовки воинов для быстрых и решительных действий в экстремальных условиях не находит распространения в войсках?
Под впечатлением этих писем, одобряемый офицерами-«афганцами», которые учились в ту пору в академии, Шарипов засел за диссертацию. В ее основу, как и при строительстве специального горно-спортивного городка в гвардейском мотострелковом полку, лег проверенный, выстраданный кровью гвардии лейтенанта Н. Наметова, других советских воинов боевой опыт. А он, этот бесценный опыт, переворачивал сложившиеся представления о физической подготовке и спортивной закалке в армии, порою шел вразрез с мнениями ученых авторитетов.
Не успел подполковник Шарипов закончить диссертацию. Предложение поехать в сражающуюся Анголу для оказания помощи в обучении бойцов национально-освободительного движения воспринял как приказ. Вернулся совсем недавно. К знанию русского, узбекского, фарси, английского прибавил местные африканские наречия, а главное, новый опыт — выживания воинских подразделений в экстремальных условиях, привез описания специфических приемов рукопашного боя.
Короче говоря, привез дополнительный материал для диссертации. Да вот беда, не ждали, видно, возвращения преподавателя в родной академии. Не оказалось для него должности. А кроме прочего, намекнули: все у тебя есть — и выслуга, и возраст. Не подумать ли в сложившейся обстановке об увольнении в запас? В такой ситуации, согласитесь, уже не до окончания диссертации.
Сорокапятилетний подполковник Шарипов, безусловно, найдет свое место в новой жизни, если и снимет офицерские погоны. Благо, есть еще в армии лейтенант Сакен Шарипов, продолжающий ратное дело деда — фронтового политрука и отца, с которых берет пример. Я уверен, старший Шарипов не растворится среди многих тысяч преподавателей физвоспитания, спортивных тренеров. Мастер спорта международного класса, судья международной категории всегда будет нарасхват. Но вот какая приходит мысль: не слишком ли мы порой расточительны, без сожаления расставаясь с подобными ему уникальными специалистами? Ведь вместе с такими, как Шарипов, безвозвратно уходит бесценный боевой опыт, носителями которого они являются и который давно уже с нетерпением ждут в войсках.
Полковник В. Безродный |