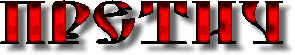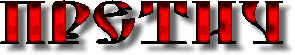Тоже через тоже - часть Первая
Часть 1 – Часть 2
«Кто идёт - идёт вперёд»
Дед Пархом
Сколько было лет деду Пархому никто наверняка не знал. Он был не настолько стар, чтобы учебник всей «Новейшей Истории» являлся ему ровесником, в то же время, наблюдательный человек, по некоторым намёкам, мог справедливо предположить, что этот учебник служит деду Пархому просто календарём. Пархом был здоровым сибирским дедом, с густой, чуть волнистой и серебряной от седины шевелюрой и такой же бородой в форме лопаты. Бороду, дед Пархом аккуратно подстригал по советским праздничным дням, но норовил, чтобы этот исконно русский предмет во всём соответствовал сохранившимся кое-где картинкам из «Жития святых». Казалось всё в нём из той далёкой, почти забытой поры; и речь его полная аллегорий, и повадки, и даже суровый и в то же время как-то необычайно добрый взгляд темных глаз из-под нависших бровей; его лицо, иссечённое глубокими морщинами, напоминало древний растрескавшийся кувшин из красной глины. Удивительно сохранившиеся зубы изредка открывались в скупой улыбке, но и её бывало достаточно, чтобы понять, даже незнакомому человеку, что этот дед добрый, можно сказать, даже безобидный. Говорил он слегка в растяжку, как это делают иные, чтобы весомей звучало сказанное. У деда Пархома всё было много естественнее - сказав что-нибудь, он закуривал самокрутку и замолкал. Его какая-то особенно едкая махорка издавала весьма приятный дымок и настраивала собеседника на домашний доверчивый лад, но если дед Пархом начинал курить, это значило - всё, разговаривать больше не о чём; в общем-то, можно, конечно, перекинуться ещё парой фраз, но какой же это разговор? Такое у него было правило - перекур есть перекур, разговор есть разговор и не зачем смешивать одно с другим. Да и вообще, при серьёзном разговоре, можно обидеть собеседника пуская ему дым в глаза, а уж это совсем пропащее дело.
Выпивал дед Пархом регулярно - в субботу вечером и в воскресенье с утра. Понемногу наливал в оловянную кружку водки и смаковал её с каким-то особенным азартом, аппетитно закусывал солёным огурчиком с хреном, или грибочками с картошкой. Растянув на пять раз, он выпивал таким образом стакан водки - двести грамм.
Ни больше и не меньше, это тоже было его правило.
Выпив, он бодро встряхивался, у него загорались глаза и всякий, кто находился рядом, ждал от него удивительных рассказов - историй пахнущих стариной и легендой. Но старик почти никогда не рассказывал им фронтовых историй, ни лесных сказок, вообще ни чего. Он смачно присаживался на лавочке у калитки своего старого, такого же, как он сам, дома и, пуская сизые махорочные дымки, слушал, что говорят другие.
Здесь как раз был закуток образованный двумя заборами и отсюда открывался прекрасный, для гостей и привычный для селян, вид на заходящее солнце, на реку, на лес.
Деревня, как это бывает чаще всего, располагалась у реки на пригорке; все окрестности были как на ладони. Река, широкой ленивой лентой уходила за горизонт на север. Кое-где её скрывали леса, кое-где её пересекали мосты. Река подмывала деревушку, высокий глиняный берег время от времени отрывался и широким пластом, с шумом обрушивался в воду, деревня потихоньку обступала - пятилась от реки. Уже несколько домов сползло в реку. Но это вряд ли кто считал бедой - так было всегда, а значит дело привычное.
В закутке возле дома деда Пархома, летними вечерами собирались все старики и старухи, с внуками, с детворой ещё не доросшей до собственных компаний, приходили и пьяненькие - так собиралась почти вся деревня, всего-то восемнадцать дворов. А раньше было гораздо больше…
Дед Пархом иногда сильно злился на эти посиделки, но без них была бы совсем тоска и оттого вечером он занимал место на своей лавочке и молча курил. Никогда он не зачинал разговоров, только лишь отвечал на вопросы.
«Жить-то всё хуже и хуже, куда катимся? А что, Пархом, пенсии-то хватает?» - «Хватает, как и всем» - только и ответит дед Пархом и выпустит особенно большое облако злейшего самосадного дыма, аж комарики со звону сбиваются и улетают к тем, кто приветливей.
«А мне вот со старухой совсем не хватает! Кабы не огород, да куры, да корова... И на корову сколько надо, а везде плати и не просто плати, а по цене безбожной! - говорит сосед, ветеран и такой же древний как дед Пархом - Вот опять железки зашевелились... Эт те, что с под Киеву, железки-то эти... Ржавеют, что ли? А у тебя, Пархом, как, железки-то шевелятся?» - « Бывает» - «Ты ведь тоже под Киевом раненье получил?» - «Контузию...» - вот и всех разговоров с дедом Пархомом. Так что постепенно с ним перестали и толковать, а про меж себя говорили больше о ценах, о правительстве, об губительности реформ (они врагу на руку), об демократии (что до сумы довела, до нищеты и поголовного разбоя), да ещё говорили о холодной зиме, о прошедшей войне и о войне сегодняшней, о войне будущей (непременно о Америкой). А пуще всего судачили за подлеца Ваську, что «заблазнил» Наташку, дочку Ефросиньи, и убёг в город - гад этакий! «И всё-то он с улыбочкой, всё о усмешечкой!» А ещё говорили о другой Наташке, дочке Клавдии, что год хворая спиной лежит, а дочь, как уехала пять лет назад в столицу (дескать, учиться) так даже письма не напишет - чем живёт эта Наташка в столице неизвестно, но чем она ещё может жить, как не этим? Вот как бывает-то... Вертихвосткой сызмальства была, с парнями уже с пятнадцати лет целоваться начала, а этим... Про это, деревенские жители говорили вполголоса, значительно, и именно так - намёком. А Клавдия, меж тем, того и гляди, помрёт, совсем плохая...
Дед Пархом всё слушал, покрякивал и отвечал ежели спросят, но не спрашивали и тогда, прощаясь и желая всем доброго сна, он говорил: «Спать, так спать, а то можно ещё поболтать». Все улыбались, но деда Пархома не задирали - все знали его Историю и не особенно подтрунивали над ним по этому поводу.
Сестра Настасья - Эльза
С чего к ней приклеилось это дурацкое прозвище - Эльза, знали только немногие, да и те помалкивали.
Помалкивали не оттого что боялись чего, а так, вроде как вину за собой чувствовали, да и не принято ворошить былое, особенно если оно горькое.
Ещё в молодости, когда Настасья, удивительно красивая девушка, года через три после окончания войны, встретила и полюбила немца по имени Рудольф, из немцев переселённых с Волги. Тогда-то все немцы фашистами были - фашистами и фрицами. Поделом ли, зазря - неизвестно, скорее зазря. Но что сделано того не воротишь.
Настасью тогда вся деревня осуждала, из комсомола не гнали, но за спиной шушукались, столько на нее грязных сплетен вылилось, что на троих бы хватило. А она никого не слушала - полюбила и всё тут. За эту любовь её и прозвали злой по тем временам кличкой - Эльза.
Переселенцы жили в бараках за рекой, и Настя встречалась со своим немцем возле паромной переправы, ни кого не таясь. И это тоже была любимая тема всех сплетниц. Постепенно надзор за переселёнными ослаб, а после прекратился и вовсе. Рудольф был много старше Насти и был уже раз женат. Жена от него ушла ещё до войны, тогда Рудольф, партийный с 20-го года, занимал хорошую должность в городе. А как его вместе с другими немцами выселили в Сибирь, из партии его вроде как никто и не исключал, просто это взялось и где надо разом перечеркнулось. Таким образом в те времена ликвидировали не только реальную, но и мнимую «Пятую колонну». В те годы многим выпало горе и зачастую куда худшая доля…
Всё же, былая партийность Рудольфа, выглядела в деревенских глазах положительно - что бы там не говорили, особенно сейчас. Не все же партийцы были Гвоздиловыми, большею частью их уважали, а тогда, после войны, тем более.
Когда Настя и Рудольф зарегистрировали брак официально, уже мало кто поглядывал на них с осуждением и не прицокивал Насте вслед: «Эльза, Эльзочка! Немецкая овчарочка!». Все уже привыкли, а присмотревшись к Рудольфу, быстрёхонько поняли, что «Немец, он всё одно - человек и, одним словом, тот же русский. Зато работяга хоть куда». Это была правда - Рудольф вкалывал за двоих, его, одно время хотели даже в бригадиры выдвинуть, но, как всегда с приличными людьми бывает, анкета подпортила дело, прошлое... Не обошлось и без злых языков, которые как-что, так тут как тут.
Много было несправедливости, много можно было накопить обид, но иногда ведь случаются и радости. А они и только они остаются в сердце и в памяти, если, конечно, человек сам добр, память его честна и сердце ещё не окаменело от суровых сибирских морозов и от холода ближнего своего. Тогда жили теснее, но теплее и веселее, и дружней. Такой радостью для Насти и Рудольфа стало рождение сыночка Коляшки. Семейное счастье длилось ровно десять лет и оборвалось в один миг. Рудольф был заядлым рыболовом - зимой удил через лунку, а весной, как только с реки сходил лёд, садился в лодку и уходил на два-три дня к островам, где рыбалка была самая, что ни наесть настоящая. Сама Настасья уговорила его в этот раз ваять с собой Коляшку: пускай-де природу сызмальства любит и понимает. Никто точно не знает, отчего перевернулась лодка и они оказались в холодной воде. Затем, видимо, Рудольф не смог выплыть, может, судорогой свело, может ещё что. Нашли их неделю спустя в трех километрах ниже по течению в прибрежных камышах в только начавшем распускаться тальнике. С тех пор Настасья не могла смотреть на реку. Весна с распускающейся листвой, была самым тяжёлым её временем. Зимой она ещё как-то отходила и даже много шутила, а так, что-то тяжёлое будто опустилось на её плечи, скрытая скорбная дума отразилась на всей её фигуре. Эта дума изредка вырывалась из отуманенных глаз, и казалось, что она вот-вот начнёт кричать, или плакать, или, как сумасшедшая, смеяться. Красота её превратилась, как говаривали, в «красоту страшную - потустороннюю красоту» За вечно полусогнутую спину, опущенную голову, за серые и мрачные одежды, её называли ещё Сестрой-Настасьей, как зовут монашек.
Что у ней осталось - одна память, прошедшее и винить не кого… Себя? Подбирались к ней строгие, без кровинки в лице, старухи со святыми писаниями, с баптистскими, да адвентистскими увещеваниями, но Сестра-Настасья гнала их прочь.
Однако сестрой она всё же была - младшей сестрёнкой деду Пархому. У отца с матерью они были единственными детьми. Как родился Пархом, у них дети долго не удавались, Настасья родилась совсем поздно и эдак нежданно-негаданно. «Незвано», как говорили злые языки; оттого, мол, и судьба у ней такая - трудная. Мать вскоре тяжко захворала и умерла, отец и раньше пьющий, совсем пал духом. Совсем спился и однажды, когда Настеньке было десять лет от роду, ушёл из дому. Думали вернётся - покуролесит, да вернётся - но он не вернулся.
Так Пархом и Настя выросли у чужих людей приживальцами. Не сладкая жизнь у сирот, но этим детям повезло; их не попрекали куском хлеба, не были с ними жестокими, хоть и не родительскую, но всё же ласку чувствовали. Как рассказывали, в детстве они были довольно дружны, потом всё куда-то девалось - каждый пошёл своей дорогой. В 45-ом с войны вернулся Пархом с контузией и с ранениями. С Рудольфом он быстро поладил, но вскоре уехал, сперва в город на заработки, потом ещё куда-то. Настасья, как потеряла мужа и сына, совсем ушла в себя и больше напоминала какой-то механизм, чем живого человека. Теперь они жили вдвоём, под одной крышей и хоть бывало молчали неделями, друг другу помогали - верно где-то глубоко внутри себя, без лишних слов, любили друг друга.
Из родных у них на всём белом свете никого не было, разве что тро-троюродный племянник, тот самый «подлец Васька» - соблазнитель Наташки. Пока жива была Васькина мать, при желании можно было бы установить степень родства, а теперь, как в народе говорят: «Нашему слесарю - двоюродный кузнец». Вот какая родня.
Настасья лучше других знала Историю деда Пархома, о чем иногда и болтала с соседками, но не зло и не подковыристо. Напротив, даже потакала ему.
Когда развалился колхоз, жизнь стала особенно трудной; куда-то исчезли, или подскочили до невозможности в цене, спички, табак, мыло и прочее, без чего не обойтись сельскому жителю. Получая с грехом пополам, раз в три месяца крохотную пенсию, пришивая заплату на заплату, огородничая, они кое-как жили втроём.
Третьим была собака.
Пёс без имени
Третьим в этой мрачноватой семье, которая скорее походила на компанию нелюдимов, или отшельников, был большой чёрный пёс. Он в свою очередь, так же был по-собачьи в преклонных летах и имел седины на морде, груди и по загривку, что нередко бывает у слишком чувствительных и чрезмерно усердных собак.
Пёс был самым молчаливым из всех троих - он лишь изредка, еле слышно скулил и не чаще двух-трёх раз в году выл на луну. Пёс был беспородный и не имел никакой клички, его окрикивали: «Эй», или дед Пархом подзывал его особым свистом. Этого пса никогда не держали на привязи, да это было бы лишним - характером он был весьма строг, но сдержан. К тому же, от старости у него выпали почти все зубы и на левый глаз он был слеп. Зато другой глаз сверкал самым настоящим, почти человеческим разумом. В отличие от других собак, он никогда не вилял хвостом - его хвост, как казацкая шашка, натянутый тугой струной, был всегда опущен к земле - это означало предельное внимание и готовность откликнуться на зов хозяев. Ни на минуту пёс не отвлекался от этой, как он думал, важнейшей задачи, от цели и смысла его жизни.
Когда-то в детстве его сбила машина и теперь он слегка прихрамывал на правую заднюю лапу, что, однако, не мешало ему справляться со своими обязанностями. Наоборот, пёс так и рвался доказать хозяевам, что он и такой, дефектный, даст сто очков форы любой псине близлежащих окрестностей. Года не охладили этого собачьего рвения, хоть и подорвали здоровье и силы во многом иссякли. Теперь пёс стал умнее и, казалось, стал ещё вернее своим хозяевам. По старой памяти, звук проезжающего автомобиля он просто не мог выносить - он убегал, прятался и жалобно скулил. Благо, что в такую глухомань и раньше мало кто заезжал, а теперь и вовсе, позабытый дым из выхлопной трубы стал редкостью. Председательский «Уазик» уже года три стоял на приколе, в гараже, по причине отсутствия бензина, запчастей, да и штатного шофёра - опять, того самого Васьки - подлеца, как было сказанною, и вдобавок дезертира.
Сама должность председателя давно перестала быть выборной, так как колхоза как такового, не было даже на бумагах, но всё же председатель имелся. Только он стал чем-то вроде английской королевы; с условной властью, с только для виду подданными-подчинёнными и совершенно без госказны. Разруха - вот что было в его владениях. Даже печать и та куда-то пропала.
А пёс, он спокойно доживал свой короткий собачий век, питался - даже страшно сказать чем, иногда тихо болел - «про себя» - сам лечился травками, видел свои счастливые собачьи сны, улыбался и плакал и не ведал, что есть такая страшная вещь - собачья смерть. И она уже близко... Его жизнь была настолько однообразна, на столько день сегодняшний походил на день вчерашний, а день вчерашний был копией до минуты дня трехгодичной давности, что будь на его месте иное, более взыскательное, или менее терпеливое существо, например человек, то такое существо давно бы сошло с ума. А пёс был псом, к тому же умным - каждый новый день он воспринимал как ребёнок - безо всякой связи с окружающим и с прошедшими днями.
Прошлое, в его памяти осталось двумя-тремя яркими, как вспышка молнии, впечатлениями - преимущественно плохими. В будущее пёс не заглядывал - он не ведал будущего. Зарывая кость - кости, хоть и редко, но случались - он повиновался лишь инстинкту, непонятному и непреодолимому. Пёс жил настоящим и каждый день, был днём его жизни - уж только это одно служило ему взамен счастья. «Счастье? Да, это интересно, наверное... Человек только в нем и ищет утешения. Но, счастье не отличается верностью, а собака…».
Конечно, псу иногда хотелось большего, и он стыдился этих своих нескромных желаний; нельзя же каждый божий день получать мозговую косточку - так недолго захотеть и кость с мясом! Нельзя и на луну выть, когда она есть и когда хочется - ведь хочется всегда! И если уж выть ни чем себя не ограничивая, то и звёзды вполне подойдут для этого, и освещённые соседские окна, да мало ли что! И пёс, понимая, что нельзя требовать с человека больше, чем он может дать, сдерживал себя - он только тихо скулил, но так, чтобы никто не услышал. Да, да, да - это слабость - скулить, а слабость несовместима со службой и верностью хозяевам.
Каждый день, ровно в 9 часов утра, пёс выбирался из ветхой конуры и садился у дверей дома. Он знал, что в 10 часов выйдет хозяин. И точно, ровно в 10 открывалась дверь, выходил дед Пархом и одевал на пса ошейник.
Поначалу, с ошейником выходили недоразумения: псу это не нравилось - ошейник вызывал в нём глухое неприятие, даже злобу. Но хозяин настаивал на ошейнике и пёс подчинился. Позже, этот кожанный ошейник он даже полюбил и теперь, при виде его, по делу и без дела, пёс начинал радостно скулить. Правда, теперь к радости пса прибавилось и что-то заискивающее. Это заискивающее поведение вмиг озаряло, если так можно выразиться, всего пса при виде хозяина с ошейником. Пёс поступал так, как это делают все собаки…
Хозяин одевал на пса ошейник, и они шли на прогулку - так считал пёс. Пройдя жиденький елово-осиновый лес, не обращая внимания на ягоды и грибы, они в 10.45 выходили к асфальтовой дороге, которая вела из города в райцентр. Другая же, разбитая, поросшая травами и с виду совершенно заброшенная дорога, соединяла уже саму деревню с этой чёрной и дурно пахнущей асфальткой. Можно было бы ходить и по дороге, но дед Пархом всегда ходил лесом. Пёс недопонимал поведение хозяина, но особенно и не пытался понять и уж конечно не спорил - ему самому лес был предпочтительней.
В том месте, где просёлочная дорога пресекалась с асфальтовой, вернее упиралась в неё, находилось странное сооружение, издали напоминающее большую, бестолково построенную из белого кирпича конуру. Этот маленький, открытый всем ветрам домик из трёх стен назывался «Автобусная остановка».
Но таковой она являлась в прошлом, теперь, проломленная крыша, чёрные и обожжённые стены, угольки от некогда скамеек, мусор и какой-то дурной запах, одним словом - язва, маленький памятник гибели, крушения огромной страны. Рухнувшая и стремительно разлагающаяся страна, была подобна этой затерявшейся, микроскопической автобусной остановке - этой и ещё тысяче ей подобных на всех дорогах. Можно было ехать часами по этой асфальтовой дороге и через каждые 2-3 километра встречать ещё более печальные свидетельства гибели цивилизации, сожжённые дома, склады, поля, леса; разрушенные, разворованные, проржавевшие трактора, сеялки, комбайны; пустые деревни, пустые поля, заросшие бурьяном кладбища. Казалось, здесь свирепствует чума, или идёт война... Но не было чумы и не было войны.
Глядя на эти «безобразия», не только псу, но и человеку хотелось иной раз встать на четвереньки и взвыть. Но человек себя сдерживал, а сдерживал себя, потому что сам был виновен. А потом, человек умеет успокоить себя надеждою. И всякий раз, когда надежды оказываются тщетными, человек сдерживается по каким-то иным соображениям. Когда же мыльными пузырями лопаются и эти - «иные соображения», человек выдумывает множество причин, по которым ему необходимо сдержаться, а потом следуют обстоятельства, ситуации и т.д. Человек, вообще, очень силён на выдумку, тем более ту, что даёт силы ещё потерпеть. И это страшное терпение он носит годами, он ждёт и надеется всю жизнь и постепенно сходит с ума. У нас, в России, это называют блажью и пользуются блаженные больше пониманием, чем насмешкой.
Отсюда и пошло гулять по свету выражение: «Собачья жизнь».
Что касается деда Пархома, то эти его каждодневные прогулки к «асфальтке», все односельчане относили к простой привычке, хотя, может быть, к привычке с некоторой долей блажи.
Дед Пархом всегда садился на один и тот же большой чёрный камень несколько поодаль от остановки и смотрел на дорогу. Пёс оставался всегда позади хозяина. Он залегал в траву в метрах десяти от него и, как боец перед атакой, зорко следил одним глазом за хозяином и за дорогой. Дорога была пустынной, лишь иногда по растрескавшемуся асфальту громыхая проносился грузовик, или осторожно, элегантно объезжая колдобины, шурша шинами, тихо проезжала легковушка. В последнее время зачастили большие и изящные «иномарки», но в них сидели не свои, а «бандиты «, как говорили про них в народе. Проезжали и огромные рефрижераторы с заокеанскими куринными окорочками. Но в целом, можно было сидеть час, два, три и не увидеть ни одной живой души, так было всегда, за исключением «грибных сезонов».
Эта «асфальтка», такая важная для сельчан, на карте обозначалась как второстепенная и вообще - дублирующая иные основные магистрали. Но, тем не менее, ровно в 11.00 из-за поворота показывался жёлтый рейсовый автобус, он не останавливаясь проезжал мимо. Водитель отлично знал, что этот дед - чудак, и он никуда не едет. Он махал деду рукой, дед Пархом степенно кивал ему ответно бородой, а потом вставал с камня и не оглядываясь больше на дорогу, шел домой. Ровно в 11.45 хозяин снимал с пса ошейник и ласково потрепав его по загривку, говорил: «И сегодня ничего, ничего... Может, завтра, а?». Пёс радостно скулил, лизал руку хозяина и всем своим видом показывал: «Да, завтра точно, завтра обязательно!». Пёс лукавил - он ничего не понимал и, если честно, то нынешний порядок вещей его устраивал, и он согласен был ходить на эту «асфальтку» до конца дней своих - вечность. Только, с харчами... здесь, псу, желательны были бы улучшения.
Хозяин уходил в дом, или на огород, а пёс снова становился прежним - молчаливым и сдержанным сторожем.
Так они ходили каждый день вот уже множество лет. Когда-то давно здесь ходило несколько автобусов и они точно по расписанию останавливались на этой остановке. Потом, когда настудили эти новые времена, количество автобусов сократилось до одного, потом и этот единственный автобус стал делать всего один рейс «туда-обратно». Теперь автобус останавливался очень редко - по просьбе какого-нибудь пассажира, но таких было всё меньше и меньше. Вскоре автобус перестал здесь останавливаться вообще, (кроме двух раз в месяц, когда старики этой деревни ехали в район за причитающейся пенсией, и второй раз - когда они возвращались. Но вскоре пенсию стали давать раз в три месяца и вскоре же, сельчане приноровились ходить в райцентр пешком, в случае особой нужды использовали лошадь и телегу).
Зачем хозяин ходит каждый день именно на это место, ведь много иных, гораздо привлекательных мест, пёс не знал. Он был воспитанный пёс и понапрасну не дёргался во все стороны. Пес и не пытался разрешить эту загадку, он просто жил и радовался каждому новому дню.
НОМО HOMINI MONSTRUM или «История деда Пархома»
То, чего не ведал пёс, знали все без исключения жители деревни. «Что ж здесь удивительного? Пёс он и есть пёс, ему знать не положено» - так скажет всякий читатель, непременно скажет и это несмотря на известную уже смекалистость данного пса. А раз так, то не вдаваясь в теории «собачьего интеллекта», поспешим разъяснить суть дела.
Конечно, собаке многое не дано, вернее, её дарования находятся несколько в иных плоскостях, отсюда - не стоит преувеличивать и в человеке его способности к пониманию. В человеке, в таком, какого мы сейчас видим, т.е. в человеке среднестатистичном, редко, но встречается необычайная прозорливость. В общем-то, таких типов, прозорливых, довольно много, но они обладают качеством - быть незаметными. Есть откровенные тупицы - их вечно наивный вид вселяет надежда на то, что они еще поумнеют. Хотя это и сомнительно. Но уже сама надежда на их возможное поумнение, исключает их из числа заведомых и безнадёжных тупиц. Третья, самая многочисленная категория граждан - это среднестатистичный гражданин, это не то что бы мещанин или обыватель, или там серое существо - это, скорее, многоликое до безликости, прозрачно-непроницаемое и ничтожно-великое явление. В нём всего понемногу; нельзя сказать, что этот человек глуп, но и умён он относительно (он вообще, тип относительный). Он не очень красив, но непривлекательным не назовёшь; думает, но не делает - делает, но не думает; он и думает и делает, и думает и не делает - он вообще, делает только само дело и думает саму думу. Из среднестатистических получаются лучшие мастера и деятели наук, искусств, философии - он мудрее мудреца и тупее тупицы. Мудрец, как известно, заявляет: «Я знаю только то, что ничегошеньки, я бедный, не знаю» (многоточие обязательно!). Среднестатистичный знает только то, что он знает и самая последняя его мысль - абсолют - предельная и высочайшая мудрость (конечно, только для него и только до момента рождения новой мысли). Мудрец не придаёт сверхъестественного значения своей мудрости - он, вообще, мало чему придаёт значение; он знает, что Истины нет, или она непознаваема, или ещё что-то досадное мешающее познанию. А мудрость - это относительная глупость. Среднестатистичный дорожит своей мудростью, как выстраданной собственностью, она его Истина (он надеется, что его Истина, так или иначе, Истина всеобщая). Он спешит эти открытия своей мудрости, как невиданную доселе ценность, запечатлеть на бумаге, в нотах, на холсте и т, д. И всё это не какие-нибудь меркантильные расчеты, нет! Он творит исключительно бескорыстно, для потомков, ну, может быть, немного и для своего личного бессмертия. За то и слава ему - при мудрецах мы б жили на голой планете, да и жили бы?(Мудрецы, как правило, кончают свой век довольно скверно - сумасшествием иль самоубийством, ибо до сих пор не решили для себя такой «пустяковый» вопрос - Стоит ли жить?)
Тут на смену мудрецу, в процессе обязательного сравнения, приходят тупицы. Что же с ними? О, с ними всё просто - тупица никогда не сочинит ничего путного, ничего не воплотит в жизнь - не добьется признания. Что интересно, в этом, в последнем, тупица и мудрец одинаковы!
Да, они одинаковы в гораздо большем - в основе, в сути своей, но если мудрец признаётся в том, что ничего не знает, то тупице признаваться не в чем - он на самом деле ничего не знает, и не догадывается. Ни о чём!
Среднестатистичный человек не герой, но и не трус; не наглец, но и не рохля - он умеет реализоваться. Он издает сорокотомные труды, понять которые, тупице понадобится сорок лет, а мудрец всё это выразит в четырёх словах.
Мудрец равнодушен к среднестатичному и с пониманием относится к тупице. Среднестатичный завидует мудрецу и одновременно, преклоняясь ненавидит его. Тупицу же он презирает. Тупица же, прост - он ненавидит всех, или любит сразу всех. У него трудно отличить одно чувство от другого, и ещё не известно какие беды несёт его любовь.
Как видно, среднестатистический человек не только в количественном большинстве, но и в разнообразии. (Качество - не так чтоб уж плохо, но и до хорошего далеко. Необходимо, конечно, а обойтись можно).
Среднестатичный очень богат на чувства, на выдумки и на слова, одно из них: «Человек человеку зверь».
Всю свою жизнь дед Пархом прожил один и, ещё - незаметно. Так незаметно, что сам не заметил как годы пролетели и, вроде бы ничего не оставили после себя. Старики, его одногодки, считали, что дед Пархом, за исключением военных лет, «кажись», так и прожил безвыездно в родной деревне. Более того, спроси их: «Кто таков дед Пархом?», они почешут затылок и не сразу, вроде как припоминая, ответят: «Дед? Пархом?.. А-а-а, так это ж... Как его? Живёт такой, давно живёт. Точно, и зовут Пархом... и т.д.». (Только вот не спрашивал никто деда Пархома, Настасью ещё спрашивали, а вот его никогда).
Причин этой «незнаменитости» деда Пархома можно назвать сколь угодно; и люди де чёрствые, равнодушные, и хата его на отшибе, не пьяница он, не дебошир какой. Конечно, это тоже весомо, но скорее всего причина в том, что дед Пархом и сам не лез на середину села. Он как-то по обыденному примелькался в своем однообразном пиджачке, зимой в тулупчике, со своей небрехливой собакой - слился с пейзажем, так сказать, и на него почти не обращали внимания. Ну кто обращает внимание на какую-нибудь с детства известную и намозолившую глаза вещь - на ворота, на лавку, на трубу? (Надо родиться художником, чтобы в однообразном, каждодневном пейзаже за окном, в тысячи раз пройденной улочке, увидеть и показать новое, интересное. Ведь ничто не стоит на месте).
Дед Пархом не был самой главной фигурой в деревне - не выделялся из всех каким-нибудь ярким талантом или пороком. Так, обычный и следовательно незаметный. Конечно, деревенский люд трудно уличить в равнодушии - испокон века жили вместе, общинно, но если человек, как дед Пархом, не шёл к людям с распахнутой душой, не лез обниматься со всеми в самом пьяном виде и с горя не оглашал все окрестности набатными воплями, то и люди, общество, его не жаловали подобными проявлениями братства и своячества. Сам Самыч - так его величали некоторые, но это было через чур; тогда его назвали шуточно - Пархом Безмолвный. Но как бы его не называли, толку с этого не было.
Меж тем, дед Пархом, хоть и прожил значительную часть жизни в родной деревне, но побывал и во многих уголках страны. В его трудовой книжке значились десятки отнюдь не деревенских профессии, а еще больше разных городских предприятий, фабрик и известных по всему Союзу строек. Кроме фронтовых наград, были награды и за труд, а всевозможные грамоты и похвальные листы, пылились теперь стопкой где-то в шкафу, среди разрозненных журналов «Огонёк», «Новый мир», «Наш современник» и невесть как уцелевших, почти антикварных, дореволюционных номеров журнала «Вокруг света». Там же, покопавшись, можно было найти древнейшие образа святых, подзорную трубу времён русско-японской войны с треснувшей линзой, там было даже большущее позеленевшее поповское кадило, наверное, ещё с допетровских времен.
Много подобного «хлама» хранилось до недавнего времени по деревням, теперь это все выметается юными предприимчивыми «любителя старины», под видом «восстановления справедливости к поруганным большевиками православным святыням», для краеведческих музеев, для новостроящихся церквей, монастырей и т.д., за бесценок, да за доброе слово. И наивные сельчане отдают эту бесценную память разным проходимцам и тем пополняют западные аукционы и коллекции европейских и американских ценителей, похожих, скорее, на пушкинских скупых рыцарей, только много невежественней. Вороны, но снобы!
Вся биография деда Пархома не была секретом, тайн из неё никто не делал, но и интересоваться никто не интересовался - вроде бы всё это было, вроде бы и факт в жизни человека, (а у кого их нету?), и в то же время - просто выцветшие строки в потрёпанной трудовой книжке... Да и дед Пархом рубах не задирал и не ужасал любопытствующих шрамами, не кричал при случае и без случая: «А вот я, под Малоярославцем! А вы-то, тут, в тылу-то!.. А Магнитка! Да, да, и Я там здоровье ложил!..». Не кричал так дед Пархом, привычки такой не имел - говорили, зря мол, он такой, мог бы жить безбедно...
Он, конечно, всё помнил, но что ни скажи - виду не подавал, а что творилось у него там, в душе, не знал никто, да и творилось ли что вообще? Пёс многое чувствовал, но не мог сказать, а люди только говорили и говорили попусту, ни чего не понимая.
Всего одна единственная вещь была широко известна, да и то, потому что считалась его блажью. «История деда Пархома» - так её совершенно напрасно называли, может быть, оттого, что звучало это торжественно, или было созвучно медицинскому: «История болезни». Но это была вовсе не история - тайна. Тайна, которую знали все, кому хотелось знать. Деревню это веселило.
Продолжение следует…
Михаил Дмитриенко |