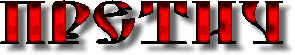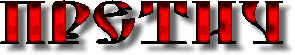Это вам, потомки! Пятидесятые годы. А.Б. Мариенгоф
Вряд ли Анатолий Борисович Мариенгоф был удовлетворен своей творческой судьбой. Талантливый поэт и драматург, он начинал в первые послереволюционные годы, издал несколько поэтических сборников, появилась его трагедия «Заговор дураков». В 1927 году был напечатан его «Роман без вранья» — сенсационно откровенный рассказ о дружбе Анатолия Борисовича с Сергеем Есениным. Мариенгофу посвящены такие значительные есенинские произведения, как драматическая поэма «Пугачев» и своего рода эстетический манифест «Ключи Марии». Долгое время Есенин и Мариенгоф были близкими друзьями, оба они выступили главными действующими лицами художественного течения, вошедшего в историю советской литературы под именем имажинизма. Их подписи стоят под многими боевыми декларациями этого объединения, противопоставлявшего себя, в первую очередь, футуризму, не говоря уже о других направлениях с более солидным стажем.
Группа имажинистов просуществовала недолго, до 1927 года. Между тем Мариенгоф в определенной степени оставался верен принципиальным открытиям своей литературной молодости. Это проявилось и в его комедии «Шут Балакирев» (1940), и в ряде других произведений. И на протяжении всех лет он был неизменной мишенью для догматично правоверных критиков и литературоведов — от погромной статьи Ан. Тарасенкова в старой Литературной энциклопедии (1932) до пресловутого А. Дымшица (1951). С лихим упорством от него, а заодно и от имажинизма «оберегали» Есенина, а большой поэт в этом вовсе и не нуждался. Так или иначе, но именно Анатолию Мариенгофу адресованы следующие есенинские строфы:
|
Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств —
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.
Возлюбленный мой! дай мне руки —
Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.
Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.
Прощай, прощай. В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.
В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно, — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.
Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам —
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?
Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.
|
 |
Среди друзей Анатолия Борисовича уже в более поздние, послеесенинскце времена — многие выдающиеся деятели отечественной культуры. Теплые отношения связывали Мариенгофа и его жену, актрису Анну Борисовну Никритину, с Дмитрием Шостаковичем. Краткие зарисовки писатели о встречах с великим композитором мы и предлагаем вниманию читателей.
 Мы жили в Пицунде. Это Абхазия. Это под синим небом теплое море, такое же красивое, как все теплые моря. Это берег в мелкую округленную гальку, к которому с гор спустились сосны. Пятисотлетние сосны. И постарше. Нам особенно нравились те, что постарше. Мы могли их обнять только вдвоем с Никритиной. Рядом с ними наши подмосковные вековые сосны казались тонкими юными деревцами. Я был так увлечен Пицундой, что даже перестал читать газеты. А у себя дома, в Ленинграде, они мне казались столь же необходимы, как две утренние чашки крепкого кофе. Мы жили в Пицунде. Это Абхазия. Это под синим небом теплое море, такое же красивое, как все теплые моря. Это берег в мелкую округленную гальку, к которому с гор спустились сосны. Пятисотлетние сосны. И постарше. Нам особенно нравились те, что постарше. Мы могли их обнять только вдвоем с Никритиной. Рядом с ними наши подмосковные вековые сосны казались тонкими юными деревцами. Я был так увлечен Пицундой, что даже перестал читать газеты. А у себя дома, в Ленинграде, они мне казались столь же необходимы, как две утренние чашки крепкого кофе.
Мы с Никритиной ходили и ходили по толстым мягким коврам из желтой хвои. До войны в царскосельских дворцах лежали почти такие же роскошные ковры.
И вот в одну из пятниц, самую обычную в этих местах, я получил письмо от приятеля. Сначала он, конечно, сообщил про погоду: «Лето у нас в Ленинграде препротивное — холод, дождь», а потом, в конце четвертой страницы, среди прочих новостей, сообщил, не выделяя особо: «Вы, конечно, знаете, что умер М. М.»
— Кто такой М. М.?
— Ничего не понимаю! Какая-то идиотская конспирация!
— М. М. ... Кто бы это мог быть?
И вдруг Никритина горестно всплеснула руками:
— Это Михал Михалыч!
У меня перехватило дыхание:
— Да... Михал Михалыч.
Перед нашим отъездом из Ленинграда он заглянул к нам на Бородинку. Был неразговорчив. Трудно улыбался.
Перечитали строчку из письма. Сомнений не было.
— Он!
Так мы узнали о смерти Зощенко.
Месяца через три, промозглым туманным днем, классическим для Ленинграда, мы поджидали к завтраку Шостаковича.
— А ты, Нюша, выпьешь рюмочку? — спросил я, откупоривая «маленькую» армянского коньяка.
— Непременно. По погодке.
Дмитрий Дмитриевич пришел, как всегда, в точно условленное время. Аккуратность, исполнительность, безусловно сдержанное слово, жизненный порядок являлись неизменными свойствами этого музыканта, самого вдохновенного в этом веке.
Шостакович поднял рюмку:
— Мне бы хотелось выпить в память Михал Михалыча.
Молча выпили.
Мы все по-настоящему любили Зощенко.
— Мне передавали, Дмитрий Дмитриевич, что вы были на его похоронах.
— Да, да, был. Конечно, был. Он лежал в гробу такой красивый. —- И, сморщив переносицу под очками, повторил резко и быстро, словно рассердившись на кого-то.
— Очень красивый. Очень, очень.
И сам разлил по рюмкам коньяк.
— Давайте по второй. В его же память. Он был великий писатель.
И опять сердито сморщил переносицу...
— Великий, великий... А вот в покер играл отвратительно! Я терпеть не мог с ним играть. Как дурак он играл. Всегда проигрывал. Помните, как я убежал, швырнув карты. Это, Анатолий Борисович, приключилось у вас на Кирочной. У Зощенко на руках флеш-рояль был. От короля-флеш. С джокером. А у меня тузовый покер. Так он, дурак, после третьего повышения — открыл меня. А ведь раздеть мог. Я бы лез и лез. Помните?
— Конечно, помню. Разве такие случаи в жизни забываются? Это ведь, Дмитрий Дмитриевич, не вторая или третья любовь.
Шостакович улыбнулся, обрадовался:
— Да, да, да! Мой тузовый покер нарвался на флеш. Такое в жизни не забывается. Это верно! Это верно!..
Во время короткого расцвета бывшего Михайловского театра (вторая половина 20 — начало 30-х гг.) там пошла первая опера Шостаковича «Нос». Замечательная опера! Острая, дерзкая, по-гоголевски гротесковая и новая в каждой своей музыкальной фразе. Успех у «Носа» был необычайным. Но не у многих. А «болото»... Как ему, «болоту» и полагается, отвратительно заквакало всем своим лягушачьим внушительным хором...
Очень долго после этого Шостакович повторял:
— Тот, кто враг «Носа» — мой враг.
Я понимал Дмитрия Дмитриевича...
На восемнадцатом году революции Сталину пришла мысль (назовем ее так) устроить в Ленинграде «чистку». Он изобрел способ, который казался ему «тонким»: обмен паспортов. И десяткам тысяч людей, главным образом дворян, стали отказывать в них. А эти дворяне давным-давно превратились в добросовестных советских служащих с дешевенькими портфелями из свиной кожи. За отказом в паспорте следовала немедленная высылка: либо поближе к тундре, либо — к раскаленным пескам Кара-Кума.
Ленинград плакал.
Незадолго до этого Шостакович получил новую квартиру. Она была раза в три больше его прежней на улице Марата. Не стоять же квартире пустой, голой! Шостакович наскреб немного денег, принес Софье Васильевне и сказал:
— Пожалуйста, мама, купи чего-нибудь из мебели...
И уехал в Москву по делам, где пробыл недели две. А когда вернулся в новую квартиру, глазам своим не поверил: в комнатах стояли павловские и александровские стулья красного дерева, столики, шкаф, бюро. Почти в достаточном количестве.
— И все это, мама, ты купила на те гроши, что я тебе оставил?
— У нас, видишь ли, страшно подешевела мебель, — ответила Софья Васильевна.
— С чего бы это?
— Дворян высылали. Ну, они в спешке чуть ли не даром отдавали вещи. Вот, скажем, это бюро стоило...
И Софья Васильевна стала рассказывать, сколько раньше стоила такая и такая вещь, и сколько теперь за нее заплачено.
Дмитрий Дмитриевич посерел. Тонкие губы сжались.
— Боже мой!..
И, торопливо вынув из кармана записную книжицу, он взял со стола карандаш.
— Сколько стоили эти стулья до несчастья, мама?.. А теперь сколько ты заплатила?.. Где ты их купила?.. А это бюро?.. А диван?..
Софья Васильевна точно отвечала, не совсем понимая, для чего он ее об этом спрашивает.
Все записав своим острым, тонким, шатающимся почерком, Дмитрий Дмитриевич нервно вырвал из книжицы лист и сказал, передавая его матери:
— Я сейчас поеду раздобывать деньги. Хоть из-под земли. А завтра, мама, с утра ты развези их по адресам. У всех ведь остались в Ленинграде близкие люди. Они и перешлют деньги — туда, тем... Эти стулья раньше стоили полторы тысячи, ты их купила за четыреста — верни тысячу сто... И за бюро... И за диван...За все... У людей, мама, несчастье, как же этим пользоваться?.. Правда, мама?..
— Я, разумеется, сделала все так, как хотел Митя, — рассказывала мне Софья Васильевна.
— Не сомневаюсь.
Что это? Пожалуй, обыкновенная порядочность. Но как же нам не хватает ее в жизни! Этой обыкновенной порядочности...
Шостакович находился тогда на Севере. Если память меня не обманывает — в Архангельске, с виолончелистом Виктором Кубацким. В солнечный морозный день (было больше тридцати градусов) в хорошем настроении он вышел из гостиницы, чтобы купить в киоске газету. Заплатив двугривенный, он тут же на морозе стал просматривать ее и сразу увидел жирную «шапку» над подвалом «Сумбур вместо музыки».
Статья была без подписи. Но эти преступные слова написал Заславский, обожавший музыку Шостаковича, а его называвший гением. Газетный негодяй написал ее по конспекту Сталина.
Шостакович прочитал статью от первой до последней строчки тут же на морозе, не отходя от киоска. У него потемнело в глазах, и, чтобы не упасть, он прислонился к стене.
Это рассказал нам сам Дмитрий Дмитриевич. Он забежал на Кирочную в первый же день своего возвращения в Ленинград.
Это было в конце сороковых годов.
Келломяки. Почему-то не льет дождь. Я прихожу на вокзал, чтобы встретить Никритину. Она обещала вернуться с пятичасовым, но задержалась на репетиции, и вместо нее я неожиданно встретил Шостаковича.
— Зайдем, Анатолий Борисович, в шалман.
Он своими тремя столиками раскинулся напротив станции.
— Выпьем по сто граммов. У меня сегодня большой день.
И Дмитрий Дмитриевич улыбается саркастически. Не люблю я этого слова, но другое, правильное и хорошее, не приходит в голову.
Садимся за деревянный кривой столик, к счастью, не покрытый облупившейся липкой клеенкой. Девушка в белом переднике приносит нам теплую водку и на черством хлебе заветренную полтавскую колбасу.
Шостакович чокается.
— Так вот, Анатолий Борисович, является сегодня ко мне мой приятель и рассказывает: заходит в консерваторию, случайно останавливается перед «доской объявлений» и читает...
Дмитрий Дмитриевич останавливается и с той же улыбкой потирает руки...
— Читает, что меня выгнали из профессоров...
— Прелестно!
— Узнает об этом, значит, из приказа, наклеенного на доску.
— Прелестно!
— Ну, выпьем, Анатолий Борисович!
— Есть за что! — говорю я.
И мы сдвигаем зеленоватые стаканы.
— Говорят, что самоубийство — слабость. Нет, нет! А я уважаю, завидую! Завидую Есенину! Завидую Маяковскому!
Это сказал мне Шостакович в 48-м году, летом, в Келломяках.
До переезда его в Москву мы хорошо дружили. Не было у Дмитрия Дмитриевича вечерушки без нас и в нашем доме без него...
На концерте встретился с Шостаковичем в филармонической ложе. На минуту-другую мне показалось, что его лицо, руки — спокойнее, сдержанней, чем обычно. Я обрадовался... Зря обрадовался. Когда заиграл оркестр, Дмитрий Дмитриевич стал нервически покусывать нижнюю губу и чесать — то нос, то подбородок, то возле ушей, то брови. Захотелось с нежностью взять его руки в свои, гладить их, пожимать. Любящая женщина, наверное, так бы и поступила. Но...
После концерта мы сговорились с Дмитрием Дмитриевичем, что он придет к нам на пельмени.
К сожалению, вместо него пришла открытка:
«Дорогие Анна Борисовна и Анатолий Борисович! После концерта мне пришлось выехать в Москву и поэтому я не позвонил Вам. Надеюсь скоро быть опять в Ленинграде, и тогда мы с вами встретимся.
Ваш Д. Шостакович».
Прошел год, но еще не встретились.
Мне рассказали, что он женился на молодой приятной женщине...
Сканирование и оцифровка PRETICH.ru
2018 г. |